Текст: Мария Каргаполова, Пётр Маняхин
Фотографии: Василий Ковбасюк
Иллюстрации: Андрей Дорожный
Фотографии: Василий Ковбасюк
Иллюстрации: Андрей Дорожный
Жизнь и смерть Весёлой Сёйки
Как живёт крупнейший
золотодобывающий рудник
Горного Алтая
золотодобывающий рудник
Горного Алтая
Россыпное золото на Алтае находили ещё до революции: в 1830 году его обнаружили в Салаирском крае, а в следующем году геологи уже искали его возле Телецкого озера и Бии. В 1911 году крестьянин, который жил на реке Сёйке, увидел в воде золотые блёстки. Он хотел застолбить привлекательную площадку, но томская управа оставила его заявку без ответа. Гипотезы геологов и местных жителей подтвердили только после Великой Отечественной войны, и на реке Синюхе началась разработка. Уже более шестидесяти лет прииск «Весёлый» на этом месторождении даёт работу жителям села Весёлая Сёйка.
1
— Ящик водки напал на трёх мужиков и отобрал у них всю зарплату, — хрипит слесарь Николай, пытаясь настроить коллег на позитивный лад перед двенадцатичасовой сменой. — Ну, вы чего, это ж в интернете анекдот есть такой.
Никто в курилке не смеётся. Один поправляет фонарь на каске, другой — курит третью сигарету подряд. Полчаса назад их привёз автобус из рабочего поселка Сёйка, утопающего в утреннем тумане между гор, а ещё через полчаса шахтёры спустятся под землю и начнут выдавать на гора золотоносную руду. Технологии добычи тут не шагнули вперёд: основной инструмент — всё тот же отбойный молоток.
— Муж накричал на жену, жена — на сына, сын — на кота, а кот взял и нассал всем в тапки, — не унывает Николай. Он в отличие от других работников «Весёлого», сидящих в курилке перед сменой, одет в классический костюм, а не в спецовку.
Никто в курилке не смеётся. Один поправляет фонарь на каске, другой — курит третью сигарету подряд. Полчаса назад их привёз автобус из рабочего поселка Сёйка, утопающего в утреннем тумане между гор, а ещё через полчаса шахтёры спустятся под землю и начнут выдавать на гора золотоносную руду. Технологии добычи тут не шагнули вперёд: основной инструмент — всё тот же отбойный молоток.
— Муж накричал на жену, жена — на сына, сын — на кота, а кот взял и нассал всем в тапки, — не унывает Николай. Он в отличие от других работников «Весёлого», сидящих в курилке перед сменой, одет в классический костюм, а не в спецовку.
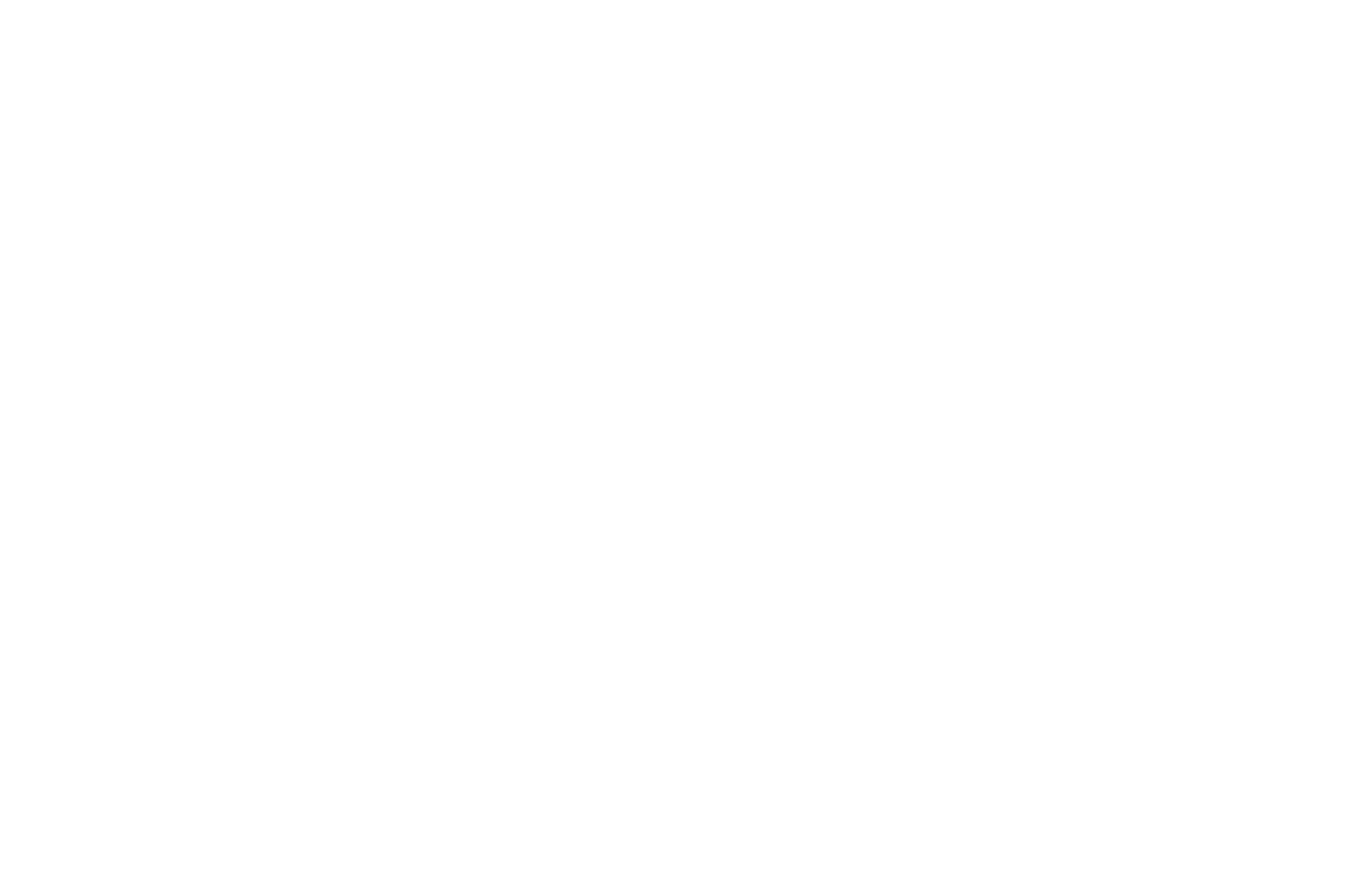
Шахтёр перед сменой
Двое шахтёров возвращаются с ночной смены — у них красные лица и испарина на лбу.
— О! Вот с ними поговорите о том, как отдыхаем, — смеётся один из шахтёров «Весёлого». — А вообще так же, как и везде — алкоголь бывает, домашние дела, скотина, охота, кто рыбак, кто за компьютером сидит.
Перед тем, как спуститься под землю, шахтёры поднимаются на второй этаж обшарпанного здания — к начальнику участка. Они садятся на стулья, стоящие по периметру комнаты, слушают инструктаж, расписываются в журнале, спускаются вниз и готовятся к работе.
— О! Вот с ними поговорите о том, как отдыхаем, — смеётся один из шахтёров «Весёлого». — А вообще так же, как и везде — алкоголь бывает, домашние дела, скотина, охота, кто рыбак, кто за компьютером сидит.
Перед тем, как спуститься под землю, шахтёры поднимаются на второй этаж обшарпанного здания — к начальнику участка. Они садятся на стулья, стоящие по периметру комнаты, слушают инструктаж, расписываются в журнале, спускаются вниз и готовятся к работе.
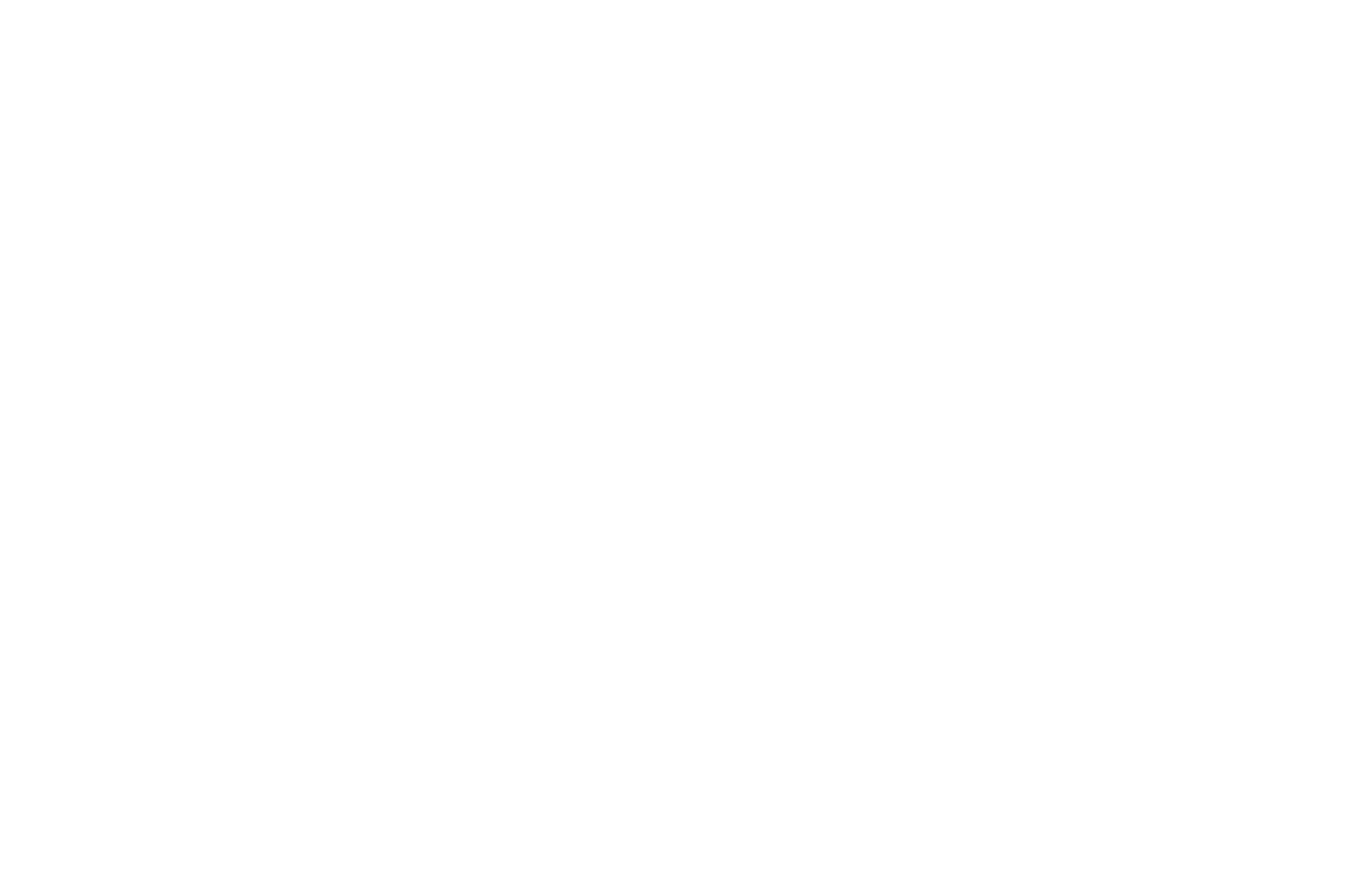
Машинистка подъёмника Татьяна
Пока машинистка подъёмника Татьяна позирует фотографу журналистской экспедиции, её коллега Галина Нестеренко показывает фотографии из шахты. Она только что вернулась с ночной смены. Машинистки работают посменно пять дней через пять по восемь часов, геолого-разведчики в шахтах — пятнадцать через пятнадцать, их смена — по двенадцать часов.
— Как восстанавливаем силы? Поспали и дальше работаем, — улыбается Галина.
— Как восстанавливаем силы? Поспали и дальше работаем, — улыбается Галина.
Она сперва удивлялась, когда слышала, как суеверные шахтёры говорят «крайний» вместо «последний». — Потом я задумалась, что последняя смена значит, что ты можешь не вернуться, не подняться на поверхность. А когда говоришь про крайнюю смену, это спокойнее, — признаётся Галина. — Работающие в шахте — особенные люди. Смелые, отважные ребята. Иногда они смеются над тем, над чем нужно плакать. Например, раздающие проходят — и на это страшно смотреть. Накиданы брёвна, а они туда лезут по верёвкам. Там обалденная высота, а они воспринимают всё это на «хи-хи».
РАЗДАЮЩИЕ - раздатчики взрывных материалов. Работают с взрывчатыми материалами и средствами взрывания: хранят, транспортируют и пр.
Машинистка с гордостью рассказывает о рабочем месте под землёй и радуется удивлению журналистов:
— У людей бывает впечатление, что я в бухгалтерии работаю, а когда говорю про шахту, у них глаза подымаются.
— У людей бывает впечатление, что я в бухгалтерии работаю, а когда говорю про шахту, у них глаза подымаются.
В конторе
В здании конторы «Весёлого» — переполох. Вернувшиеся с ночной смены шахтёры толпятся в холле на первом этаже, образуя очередь в магазин, который располагается тут же. На втором этаже, где находится здравпункт и администрация, ничуть не спокойнее: рудник «Весёлый»
с сегодняшнего дня не ОАО, а ООО. Сотрудники планово-экономического отдела решают, как в связи с переходом в ООО оформить вычет алиментов из зарплаты шахтёров. Конторские работники, как и все шахтёры и жители Сёйки, произносят «дОбыча» и «рУдник» — с ударением на первый слог.
с сегодняшнего дня не ОАО, а ООО. Сотрудники планово-экономического отдела решают, как в связи с переходом в ООО оформить вычет алиментов из зарплаты шахтёров. Конторские работники, как и все шахтёры и жители Сёйки, произносят «дОбыча» и «рУдник» — с ударением на первый слог.
2
«Я и сам пока не понимаю, что происходит».
— Документы уже готовы на ООО, а не на ОАО. Переоформлять? — спрашивает средних лет женщина у начальника.
— Да какая разница! Что семнадцатое число, что восемнадцатое — один день никто не заметит, — отвечает он.
Не меньшее беспокойство и в приёмной генерального директора Александра Краснобая, который принял дела около недели назад, а официально вступил в должность только сегодня.
— Это же всё-всё-всё переделывать из-за этого ООО! — жалуется коллегам женщина в ситцевой блузке.
Краснобай сидит в кресле под портретами Путина и Медведева, справа — икона Богородицы.
— Я и сам пока не понимаю, что происходит, — говорит гендиректор «Весёлого». — Вот сейчас советуюсь со специалистами, получаю информацию, чтобы принимать какие-то решения дальше.
— Да какая разница! Что семнадцатое число, что восемнадцатое — один день никто не заметит, — отвечает он.
Не меньшее беспокойство и в приёмной генерального директора Александра Краснобая, который принял дела около недели назад, а официально вступил в должность только сегодня.
— Это же всё-всё-всё переделывать из-за этого ООО! — жалуется коллегам женщина в ситцевой блузке.
Краснобай сидит в кресле под портретами Путина и Медведева, справа — икона Богородицы.
— Я и сам пока не понимаю, что происходит, — говорит гендиректор «Весёлого». — Вот сейчас советуюсь со специалистами, получаю информацию, чтобы принимать какие-то решения дальше.
«Эти геологи там чё-то наметят, а мы бурим-бурим,
и толку нет! — жалуется один из шахтёров».
и толку нет! — жалуется один из шахтёров».
Несмотря на то, что на сайте министерства труда Республики Алтай размещено около ста вакансий от рудника, в отделе кадров в новых сотрудниках не заинтересованы:
— Идите отсюда, а! Не до вас сейчас — у нас перерегистрация!
— Идите отсюда, а! Не до вас сейчас — у нас перерегистрация!
Зарплата на предприятии, судя по вакансиям, колеблется от 18 до 50 тысяч. Зависит от количества добытого золота и его цены на Лондонской бирже.
В этом месяце шахтёрам, видимо, придётся затянуть пояса: на огромной таблице «Показатели работы рудника», висящей рядом со входом, написано, что норма подачи руды выполнена на 45,5 %. Зато пробурили на «Весёлом» на пятьдесят метров больше, чем запланировали. Такие показатели могут означать, что сейчас шахтёры в основном не добывают золотоносную руду, а пытаются добраться до очередного пласта.
В этом месяце шахтёрам, видимо, придётся затянуть пояса: на огромной таблице «Показатели работы рудника», висящей рядом со входом, написано, что норма подачи руды выполнена на 45,5 %. Зато пробурили на «Весёлом» на пятьдесят метров больше, чем запланировали. Такие показатели могут означать, что сейчас шахтёры в основном не добывают золотоносную руду, а пытаются добраться до очередного пласта.
от 18 до 50 тысяч
Зарплата на предприятии зависит от количества добытого золота и его цены на Лондонской бирже.
По словам главного геолога «Весёлого» Ильи Бабанского, то, что добыча на руднике неравномерно распределена во времени, связано с неоднородностью разрабатываемого месторождения:
— У нас содержание золота колеблется от нуля до трёх килограммов на тонну. Таких по структуре месторождений очень мало. Думаю, не ошибусь, если скажу, что наше — единственное в России.
— У нас содержание золота колеблется от нуля до трёх килограммов на тонну. Таких по структуре месторождений очень мало. Думаю, не ошибусь, если скажу, что наше — единственное в России.
Типы месторождений золота
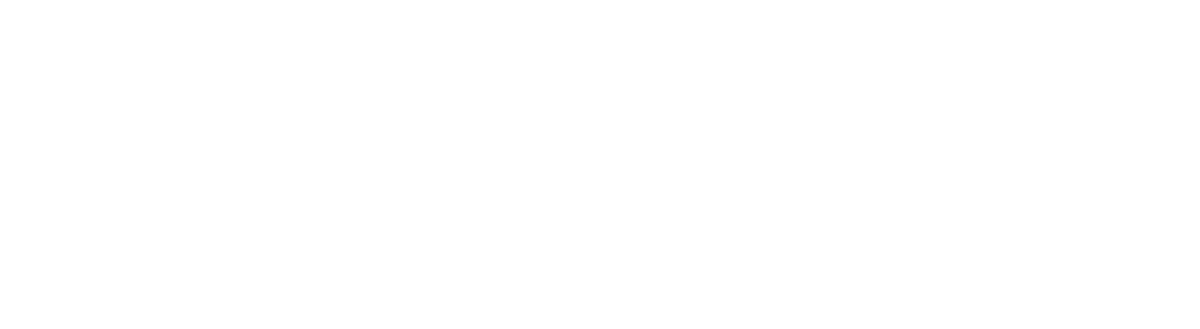
Тип 1
Самый лёгкий способ для добытчиков. Руда залегает единым пластом, практически без наклона. Содержание золота в породе однородное.
Тип 2
Пласт руды под углом в сорок пять градусов. Его сложнее добывать, так как ответвления шахты располагают горизонтально, поэтому приходится бурить глубже.
Тип 3
Пласт лежит под углом, в нём встречаются вкрапления пустой породы, не содержащей золота.
Тип 4
Области золотоносной руды находятся далеко друг от друга и на разной высоте. Добытчикам приходится много бурить пустую породу. Большинство коренных месторождений на Алтае относятся к этому типу.
Хоть «Весёлый» не самый плодородный, но копают его достаточно долго — с пятидесятых годов прошлого века.
— Есть что копать! — говорит Бабанский. — Давайте не будем забывать, что сейчас нас удовлетворяет содержание золота три грамма на тонну, а в начале работы рудника — ровно шестьдесят шесть лет назад — меньше, чем тридцать граммов на тонну, просто не брали. И это в послевоенное-то время.
— Есть что копать! — говорит Бабанский. — Давайте не будем забывать, что сейчас нас удовлетворяет содержание золота три грамма на тонну, а в начале работы рудника — ровно шестьдесят шесть лет назад — меньше, чем тридцать граммов на тонну, просто не брали. И это в послевоенное-то время.
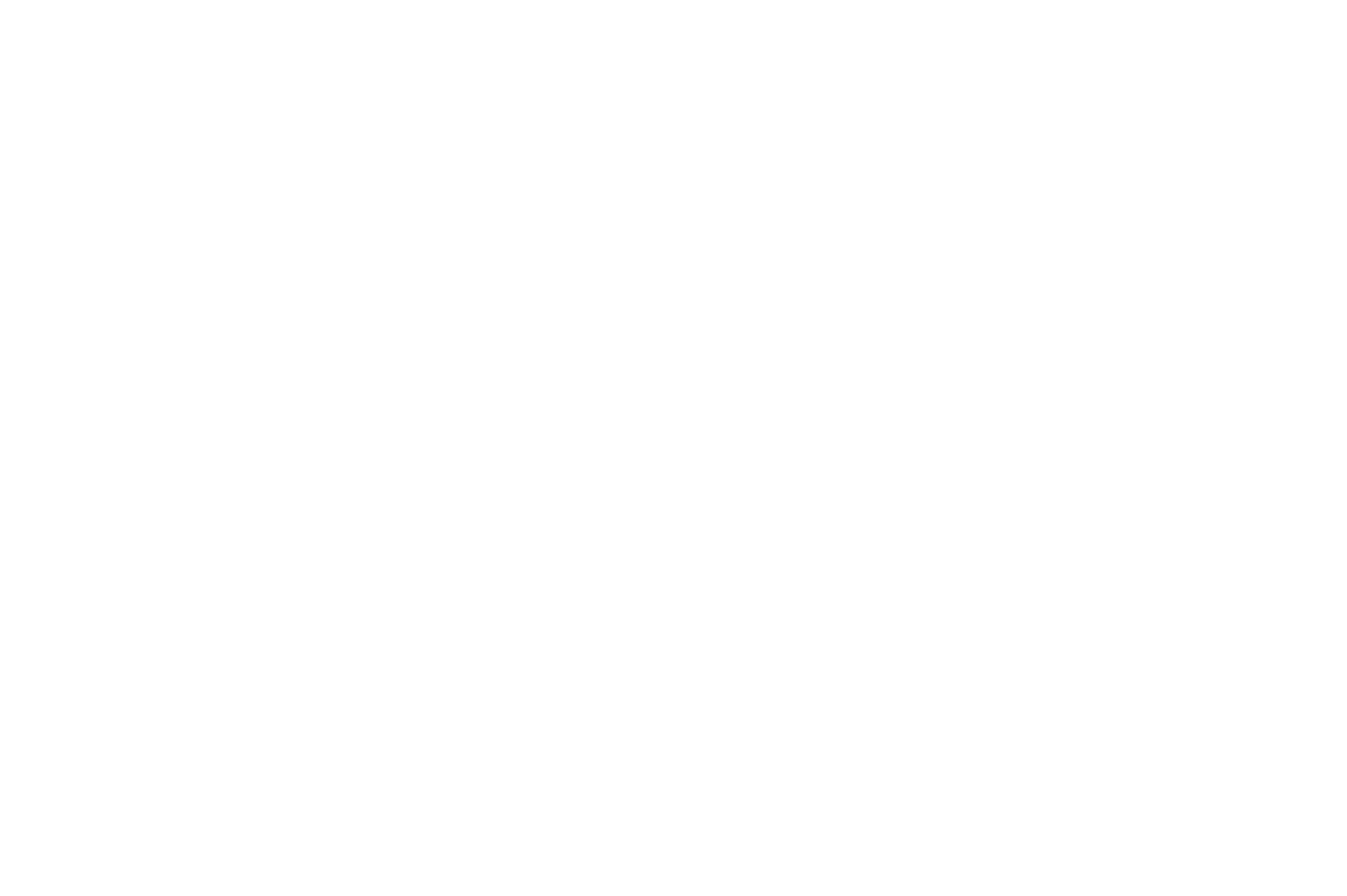
Илья Бабанский, главный геолог прииска «Весёлый»
Главный геолог прииска «Весёлый» Илья Бабанский живёт в Сёйке двенадцать лет. Его жена работала здесь оператором заправки, а теперь заведует ею. Геолог, усмехаясь, называет её королевой бензоколонки.
Они сменили несколько городов: Томск, Змеиногорск, Барнаул. Оказалось, в Сёйке самый лучший климат. Сын живёт в Барнауле.
— Я сибиряк, только мёрзну всё время. Недавно пианист Денис Мацуев по ящику сказал, что сибиряк — это национальность, — усмехается Бабанский.
Ему кажется, что в Сёйке без автомобиля и работы делать нечего:
— Здесь голимая глина, причём по закону подлости на Сёйку падает максимум осадков по Республике Алтай. Болото!
Они сменили несколько городов: Томск, Змеиногорск, Барнаул. Оказалось, в Сёйке самый лучший климат. Сын живёт в Барнауле.
— Я сибиряк, только мёрзну всё время. Недавно пианист Денис Мацуев по ящику сказал, что сибиряк — это национальность, — усмехается Бабанский.
Ему кажется, что в Сёйке без автомобиля и работы делать нечего:
— Здесь голимая глина, причём по закону подлости на Сёйку падает максимум осадков по Республике Алтай. Болото!
В кабинете главного геолога прииска «Весёлый»
— В этой работе нравится то, что бывает крайне редко — какой-то конечный результат. Мне удавалось четыре года подрабатывать в котельной, и я этой работе ужасно радовался. Кроме того, что это дополнительный заработок, там мгновенная отдача. Я подошёл, потрогал «обратку», она горячая — благодать! Я поработал и это вижу, — эмоционально рассказывает главный геолог «Весёлого».
Раньше он работал на Корбалихинском месторождении в Змеиногорском районе Алтайского края. Его разведывали двенадцать лет — и ожидание результата очень выматывало геологов.
Раньше он работал на Корбалихинском месторождении в Змеиногорском районе Алтайского края. Его разведывали двенадцать лет — и ожидание результата очень выматывало геологов.
— Мы посчитали, что за это время около десятка человек ушли из жизни — тех, кто каким-то образом участвовал в разведке, — рассказывает Илья. — Я застал вторую половину процесса разведки, и мне удалось увидеть результат этого труда, а этим людям — не удалось. Сейчас радуешься, когда дошли до хорошей руды, смогли её переработать, получить золото. Но это растянуто во времени и, к сожалению, не так часто бывает. Когда долго ждёшь и результат приходит потом — все «жданики» уже поел. Бывает, что мы идём, есть рудные пересечения с неплохим содержанием. Пришли — а там оказалась небольшая линзочка, и всё. Поэтому мы идём не тремя-четырьмя забоями, а желательно восемью-девятью сразу в нескольких направлениях. Это оптимальный вариант, половина «выстрелит».
ЛИНЗА -
геологическое тело чечевицеобразной формы, имеющее максимальную мощность в центре и быстро выклинивающееся по всем направлениям; его мощность невелика по сравнению с протяжённостью.
геологическое тело чечевицеобразной формы, имеющее максимальную мощность в центре и быстро выклинивающееся по всем направлениям; его мощность невелика по сравнению с протяжённостью.
3
«У нас единственное место работы — это рудник,
остальное либо вспомогательное, либо давно сдохло».
остальное либо вспомогательное, либо давно сдохло».
Люди переезжали в село тремя волнами. В начале двадцатого века и до конца Великой Отечественной войны здесь селились крестьяне, уехавшие на Алтай в поисках земли, и староверы, бежавшие после разгрома скитов. В конце сороковых — начале пятидесятых специалисты переезжали осваивать Синюхинское месторождение — на этом месте и вырос рудник «Весёлый». Третья волна пришла после распада СССР: русские из бывших союзных республик перебрались в Сёйку, чтобы работать на крупном руднике.
Рассказывают две версии, почему село Весёлая Сёйка так называется. По одной — название описывает добрый, покладистый нрав отцов-основателей. По другой — лягушек, горланивших на болоте Сёйка. Жители посёлка работают
на руднике «Весёлый», а если не они сами —
то их родственники и друзья.
на руднике «Весёлый», а если не они сами —
то их родственники и друзья.
— У нас единственное место работы — это рудник, остальное либо вспомогательное, либо давно сдохло, — говорит учительница сёйкинской школы Валентина Казанцева. — Это градообразующее предприятие. И всё, что здесь было, происходило потому, что происходило на руднике.
Валентина живет в Сёйке с 1949 года. Её родственники, как и родственники мужа, всю жизнь работали на «Весёлом».
Дед учительницы Христофор Торлопов переехал на Алтай из Пермской области в двадцатые годы благодаря столыпинской реформе: крестьянам выделялись земли в Сибири. Христофор ехал на телеге с большой семьёй и скарбом, и потому добирался на Алтай три года. В дороге жена умерла, оставив на мужа пятерых детей. На Алтае он нашёл новый дом в селе Ынырга неподалёку от Сёйки и новую жену — тубаларку с четырьмя детьми.
Валентина живет в Сёйке с 1949 года. Её родственники, как и родственники мужа, всю жизнь работали на «Весёлом».
Дед учительницы Христофор Торлопов переехал на Алтай из Пермской области в двадцатые годы благодаря столыпинской реформе: крестьянам выделялись земли в Сибири. Христофор ехал на телеге с большой семьёй и скарбом, и потому добирался на Алтай три года. В дороге жена умерла, оставив на мужа пятерых детей. На Алтае он нашёл новый дом в селе Ынырга неподалёку от Сёйки и новую жену — тубаларку с четырьмя детьми.
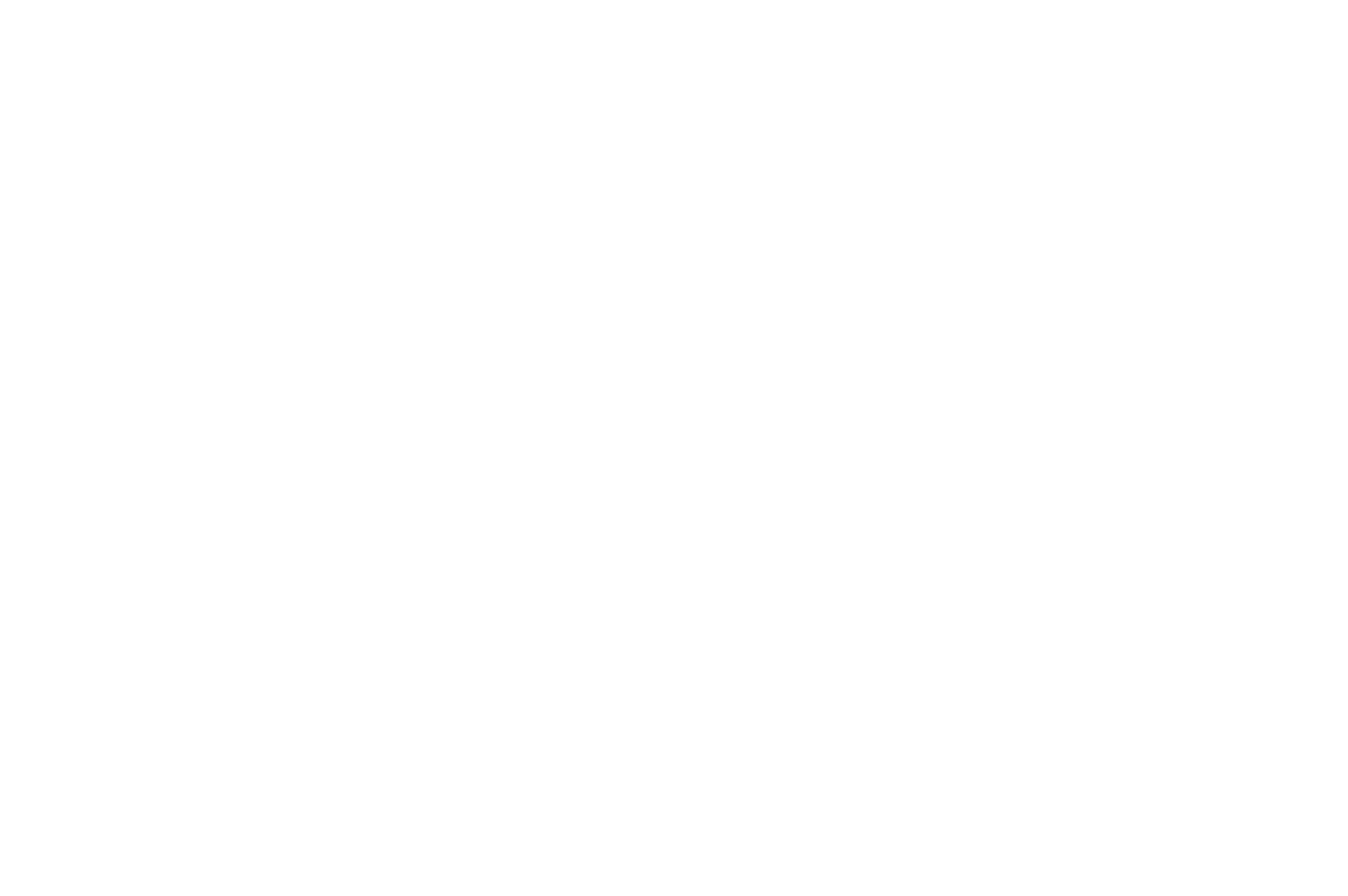
Валентина Казанцева, учитель школы в Сёйке
От второго брака и родился отец Валентины — Максим Торлопов. Он сбежал из колхоза в 1949 году, потом, отсидев положенные шесть месяцев, переехал в Сёйку и пошёл работать на рудник, рассказывает Валентина в книге, посвящённой шестидесятилетию «Весёлого»: «Людей в ту зиму съехалось великое множество. В каждой избе жило по несколько семей. Отец работал в николаевской разведке, сначала бил шурфы, потом поставили на хозяйство».
ШУРФ -
неглубокая вертикальная горная выработка для разведки ископаемых
неглубокая вертикальная горная выработка для разведки ископаемых
Затем он возил технические грузы из Чои на предприятие: летом — на телеге, зимой — на санях. Каждая поездка по бездорожью занимала два–три дня. В 1951 году при руднике создали Золотопродснаб, который обеспечивал едой рабочих и занимался торговлей. Максима Христофоровича перевели на работу сначала туда, а потом в ВОХР — там он и проработал до пенсии.
Родители Валентины выступили против её учебы — многодетной семье требовалась помощь дочери, но та настояла на своём и поступила в Горно-Алтайский пединститут. Звонить родным получалось нечасто: в шестидесятые связь с внешним миром — только по рации, телефон был редкостью, и Валентина могла позвонить матери только в дни, когда та была на работе.
Родители Валентины выступили против её учебы — многодетной семье требовалась помощь дочери, но та настояла на своём и поступила в Горно-Алтайский пединститут. Звонить родным получалось нечасто: в шестидесятые связь с внешним миром — только по рации, телефон был редкостью, и Валентина могла позвонить матери только в дни, когда та была на работе.
Добирались домой с трудом — в Сёйку не вели нормальные дороги. Чтобы повидать родных, девушка уезжала из Горно-Алтайска на чём придётся до села Чоя, что в двадцати семи километрах от Сёйки, а потом шла пешком несколько километров.
Однажды Валентина поехала к родителям на каникулы и взяла с собой подружку. В Чое студентки переночевали в заезжей избе, а потом пошли домой.
Однажды Валентина поехала к родителям на каникулы и взяла с собой подружку. В Чое студентки переночевали в заезжей избе, а потом пошли домой.
Вдруг их обогнала грузовая машина, где сидели два парня:
«Куда едете, на рудник? Мы тоже, поехали с нами».
«Куда едете, на рудник? Мы тоже, поехали с нами».
Из-за плохой дороги они ехали двенадцать часов. Девушки рубили деревья и клали под колёса, а парни толкали машину.
— Люди приходили сюда пешком с соседних деревень и приисков, — вспоминает Казанцева. — В те времена, когда рудник начинался, все хорошо работали. А теперь работников почти нет. Новые хозяева перестали платить деньги. Профессионалы же не стали работать за копейки, а разъехались. Моя сноха работает в лаборатории рудника в Охотске, племянник — в Бодайбо, зять ездит на Кавказ.
— Люди приходили сюда пешком с соседних деревень и приисков, — вспоминает Казанцева. — В те времена, когда рудник начинался, все хорошо работали. А теперь работников почти нет. Новые хозяева перестали платить деньги. Профессионалы же не стали работать за копейки, а разъехались. Моя сноха работает в лаборатории рудника в Охотске, племянник — в Бодайбо, зять ездит на Кавказ.
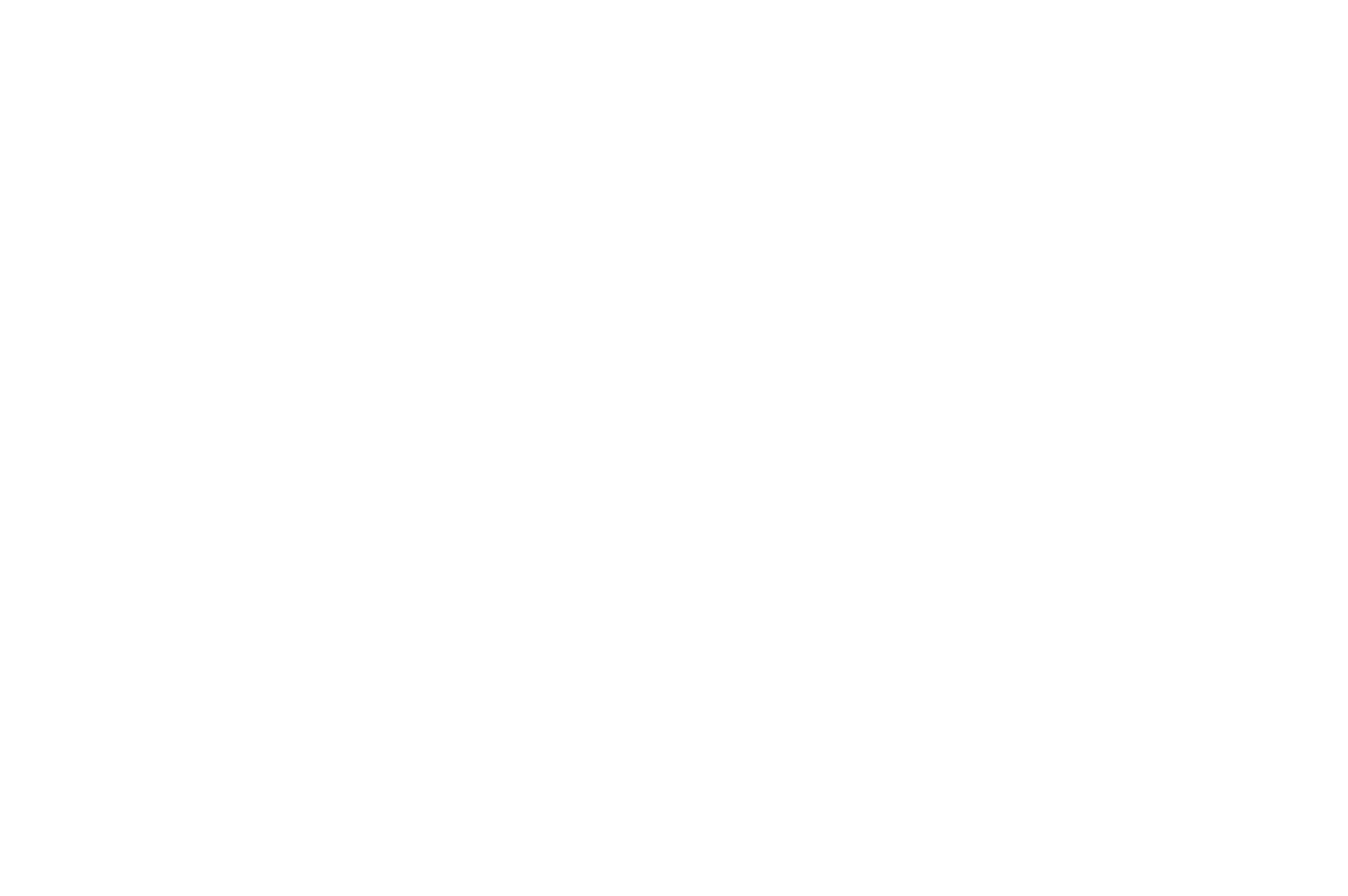
Люди, выросшие в Сёйке, при каждом удобном случае устраиваются на «Весёлый», но такие истории единичны. Несколько лет назад брат Валентины приехал сюда работать на вахту, потом привёз и зятя. Оба они получают по 15 тысяч рублей в месяц.
По словам сёйкинской учительницы, хорошие специалисты уезжают в поисках лучшей жизни, в то время как общежития для вахтовиков полны.
— Кто остался? Кто предан или кто не может никуда уехать. Я уезжала десять раз и ещё мечтаю, но не могла прожить без Сёйки, — признаётся она.
Новая смена работников расстраивает Валентину безразличием:
— Это люди, которые ищут, где есть деньги. Интересы рудника их не касаются. Произошло отчуждение собственности, и мировоззрение людей поменялось. Раньше у нас было общество рационализаторов — в Сёйке восемьдесят мужиков были изобретателями. Они изобретали, как опускать клеть, как быстро и эффективно загружать вагон, потом оформляли рацпредложение. Каждую неделю общество заседало: принимали, отклоняли. Муж с другом-инженером сидели каждую ночь над чертежами, писали, вычисляли, спорили чуть не до драки. Все были заинтересованы. Теперь этого нет. Люди хотят только получить зарплату.
По словам сёйкинской учительницы, хорошие специалисты уезжают в поисках лучшей жизни, в то время как общежития для вахтовиков полны.
— Кто остался? Кто предан или кто не может никуда уехать. Я уезжала десять раз и ещё мечтаю, но не могла прожить без Сёйки, — признаётся она.
Новая смена работников расстраивает Валентину безразличием:
— Это люди, которые ищут, где есть деньги. Интересы рудника их не касаются. Произошло отчуждение собственности, и мировоззрение людей поменялось. Раньше у нас было общество рационализаторов — в Сёйке восемьдесят мужиков были изобретателями. Они изобретали, как опускать клеть, как быстро и эффективно загружать вагон, потом оформляли рацпредложение. Каждую неделю общество заседало: принимали, отклоняли. Муж с другом-инженером сидели каждую ночь над чертежами, писали, вычисляли, спорили чуть не до драки. Все были заинтересованы. Теперь этого нет. Люди хотят только получить зарплату.
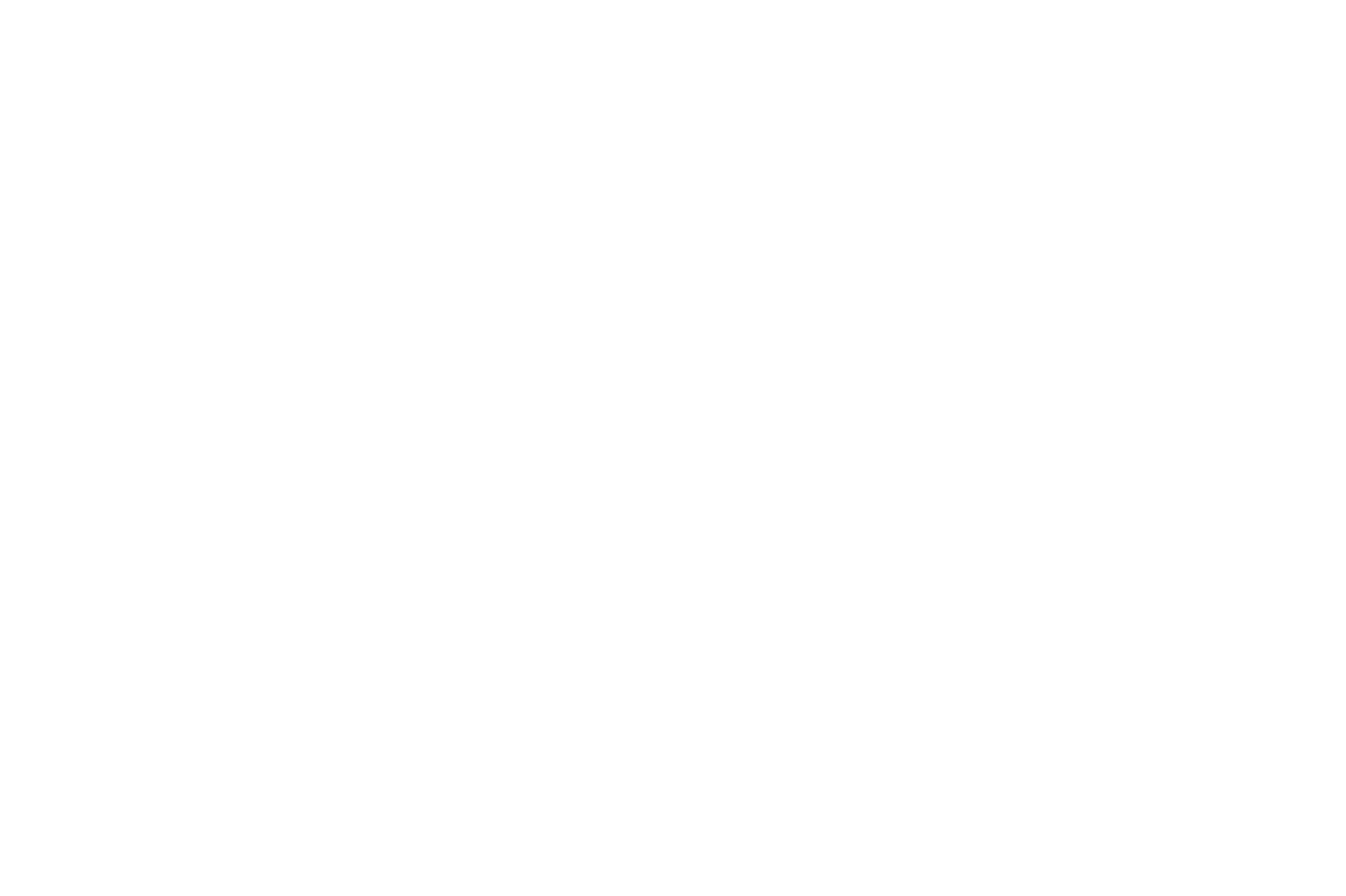
Учительница Валентина Казанцева во дворе своего дома
Многие переселенцы нашли в Сёйке дом. Но были и те, кто не мог привыкнуть к суровому быту. В пятидесятые не хватало жилья, и люди жили в землянках, вспоминают авторы книги «60 лет ОАО Рудник „Весёлый"». Золото добывали с помощью деревянной тачки, лопаты и простейшего промывочного устройства.
Казанцева иронично рассказывает о женщине, которая отказывалась стирать бельё, копила его мешками и увозила к родителям в Кривой Рог. Что мешало загрузить стиральную машинку, как это делали остальные?
— Предрассудки! — восклицает рассказчица.
Село жило в одном ритме, одной семьёй. По вечерам люди собирались на тырло — сборище, где общались и пели песни под гармонь. Сейчас все «сидят перед ящиком», усмехается учительница. Впрочем, она освоила интернет и переписывается с подругами по всей России, делится новостями Сёйки.
Казанцева иронично рассказывает о женщине, которая отказывалась стирать бельё, копила его мешками и увозила к родителям в Кривой Рог. Что мешало загрузить стиральную машинку, как это делали остальные?
— Предрассудки! — восклицает рассказчица.
Село жило в одном ритме, одной семьёй. По вечерам люди собирались на тырло — сборище, где общались и пели песни под гармонь. Сейчас все «сидят перед ящиком», усмехается учительница. Впрочем, она освоила интернет и переписывается с подругами по всей России, делится новостями Сёйки.
«Тогда не было формалина, и тело опрыскивали "Шипром".
С тех пор я этот "Шипр" страшно ненавижу».
С тех пор я этот "Шипр" страшно ненавижу».
— Первая смерть на руднике случилась в 1953 году, я была ещё маленькой, — вспоминает Валентина Максимовна. — Погиб взрывник. Мы провожали его всем селом. Он стал первым, кто покоится на нашем кладбище. Теперь там около трёх тысяч человек — в деревне уже людей живёт меньше.
Это воспринимается как общая беда. В 1958 году погиб мастер, молодой приезжий парнишка. Вся деревня была в жутком трауре. Мы пять дней ждали, пока приедет его мать. Шёл июнь месяц, жара. Тогда не было формалина, и тело опрыскивали «Шипром». С тех пор я этот «Шипр» страшно ненавижу, не дай бог услышу этот запах. И потом на руднике гибли люди. Рудник — не место для прогулок, это знают все. Опасно для жизни, а для здоровья тем более.
Это воспринимается как общая беда. В 1958 году погиб мастер, молодой приезжий парнишка. Вся деревня была в жутком трауре. Мы пять дней ждали, пока приедет его мать. Шёл июнь месяц, жара. Тогда не было формалина, и тело опрыскивали «Шипром». С тех пор я этот «Шипр» страшно ненавижу, не дай бог услышу этот запах. И потом на руднике гибли люди. Рудник — не место для прогулок, это знают все. Опасно для жизни, а для здоровья тем более.
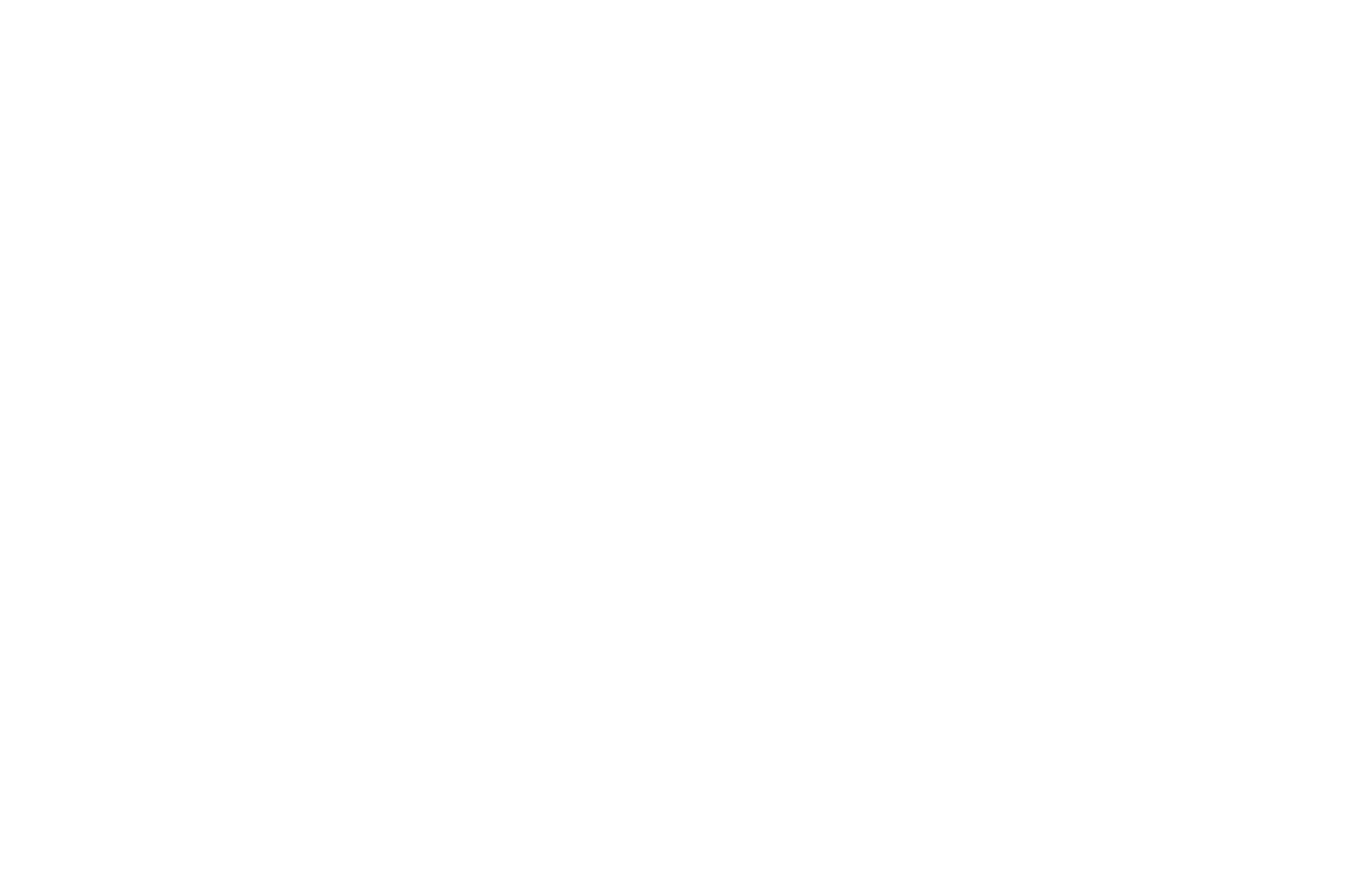 | 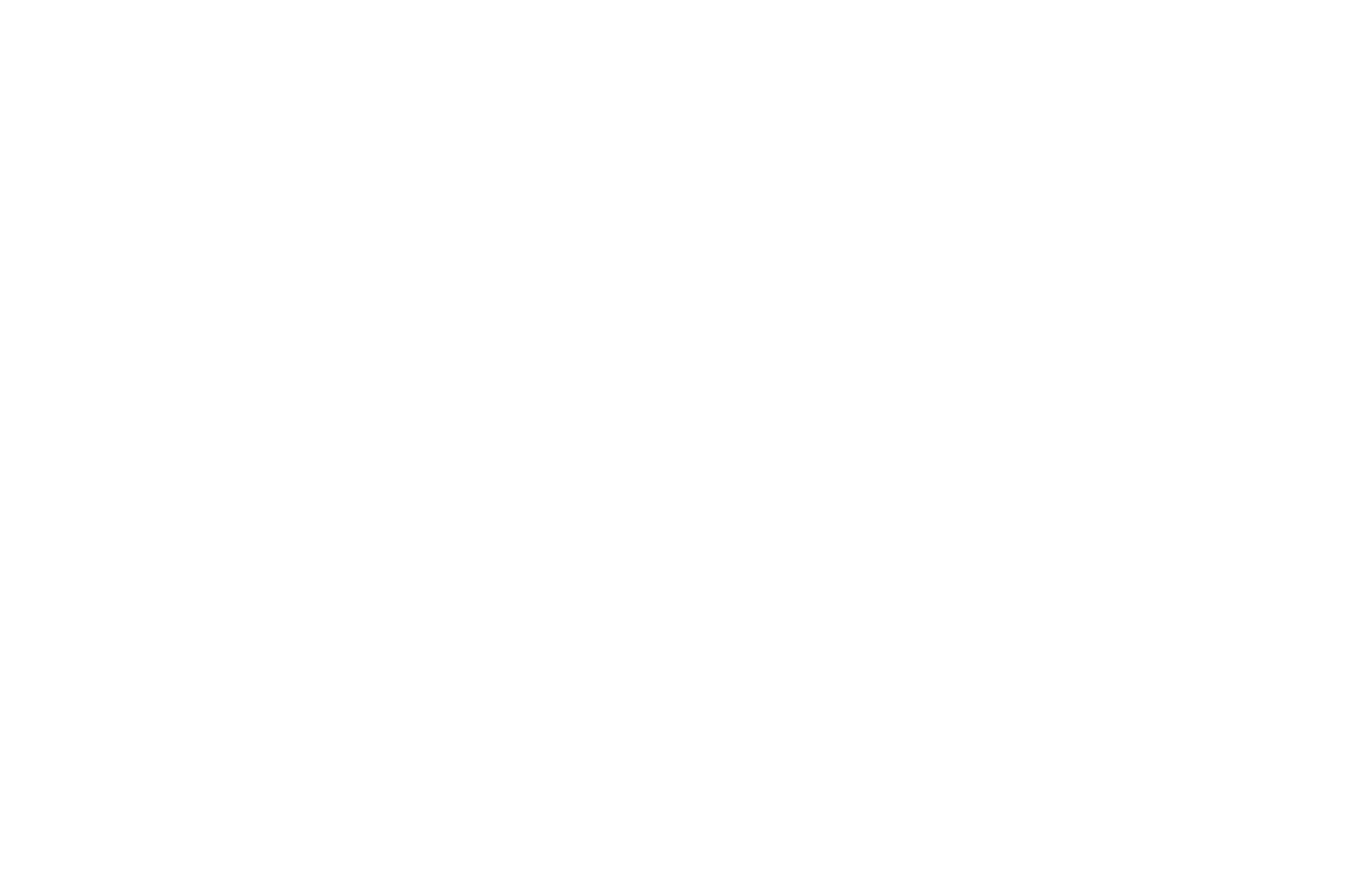 |
Кладбище в Сёйке
Деверь Казанцевой работал на фабрике по переработке при руднике и в 1976 году получил ртутное отравление. Тогда руду перерабатывали с помощью тяжёлых металлов: натирали листы амальгамой ртути и так улавливали золото.
— Однажды там произошло массовое отравление. Ртуть же оседает на сосудах. Он не успокоился и добыл себе профзаболевание, и женщинам, которые с ним отравились, и мужикам, — вспоминает Валентина. Рудник много лет платил им компенсацию по утрате трудоспособности. Родственник перенёс пять операций, ампутацию ноги и стал инвалидом.
Горный инженер Геннадий Коршунов в 1969 году исследовал наличие кремнезёма (диоксида кремния) в рудничной атмосфере и установил, что содержание вещества в воздухе — более 10 %. Дышать таким воздухом опасно для здоровья.
— Рудник стал силикозоопасным. Силикоз — заболевание, когда от кремнезёма оседает пыль в лёгких, — поясняет рассказчица. — Поэтому у подземщиков увеличился отпуск за вредные условия работы, начали давать спецпитание. И пенсия раньше — в пятьдесят лет у мужчин, сорок пять у женщин. Но теперь всё потихоньку отнимают. Мужикам теперь очень трудно получить статус профзаболевания.
В Сёйке живёт полторы тысячи человек — на пятьсот меньше, чем тридцать лет назад.
— Однажды там произошло массовое отравление. Ртуть же оседает на сосудах. Он не успокоился и добыл себе профзаболевание, и женщинам, которые с ним отравились, и мужикам, — вспоминает Валентина. Рудник много лет платил им компенсацию по утрате трудоспособности. Родственник перенёс пять операций, ампутацию ноги и стал инвалидом.
Горный инженер Геннадий Коршунов в 1969 году исследовал наличие кремнезёма (диоксида кремния) в рудничной атмосфере и установил, что содержание вещества в воздухе — более 10 %. Дышать таким воздухом опасно для здоровья.
— Рудник стал силикозоопасным. Силикоз — заболевание, когда от кремнезёма оседает пыль в лёгких, — поясняет рассказчица. — Поэтому у подземщиков увеличился отпуск за вредные условия работы, начали давать спецпитание. И пенсия раньше — в пятьдесят лет у мужчин, сорок пять у женщин. Но теперь всё потихоньку отнимают. Мужикам теперь очень трудно получить статус профзаболевания.
В Сёйке живёт полторы тысячи человек — на пятьсот меньше, чем тридцать лет назад.
4
«Чтобы уехать, нужно много денег, и чтобы тебя кто-то ждал».
Валентина Максимовна — первая выпускница сёйкинской школы. Потом она преподавала там историю, а сейчас работает социальным педагогом. Учительница сетует, что медалистов стало меньше, а вот детей из пьющих семей в Сёйке больше, чем раньше:
— Количество неблагополучных детей плодится в геометрической прогрессии. Основная причина — потеря работы. Родители потеряли работу, не хватило духу устоять, а дети есть. Вылетают те, кто слабее, кто меньше работал, кто не умел работать. Некоторые вылетели за то, что с чем-то не согласны. Почему не уезжают? Чтобы уехать, нужно много денег и чтобы тебя кто-то ждал.
— Количество неблагополучных детей плодится в геометрической прогрессии. Основная причина — потеря работы. Родители потеряли работу, не хватило духу устоять, а дети есть. Вылетают те, кто слабее, кто меньше работал, кто не умел работать. Некоторые вылетели за то, что с чем-то не согласны. Почему не уезжают? Чтобы уехать, нужно много денег и чтобы тебя кто-то ждал.
Бывший работник «Весёлого» Саша
(имя изменено по просьбе героя — примечание редактора) провёл в Сёйке всю жизнь.
Деды приехали на открывающийся рудник
в 1958 году, мама устроилась машинисткой подъёма, папа — шахтёром.
(имя изменено по просьбе героя — примечание редактора) провёл в Сёйке всю жизнь.
Деды приехали на открывающийся рудник
в 1958 году, мама устроилась машинисткой подъёма, папа — шахтёром.
О работе на руднике он отзывается скептически:
— Выбор невелик — у нас тут больше работать негде. Сейчас многие ездят на заработки, а к нам едут работать иногородние со всей России и Казахстана. Я после школы пошёл в автотранспортный цех, огромный, с огромным количеством техники. Потом рудник признали банкротом и продали с аукциона. Купили его москвичи, горнодобывающая компания «Сибирь». Рудник начал гибнуть. Здесь в восьмидесятых проходил новый ствол шахты — более шестисот метров вниз. Всё было подготовлено к работе.
— Выбор невелик — у нас тут больше работать негде. Сейчас многие ездят на заработки, а к нам едут работать иногородние со всей России и Казахстана. Я после школы пошёл в автотранспортный цех, огромный, с огромным количеством техники. Потом рудник признали банкротом и продали с аукциона. Купили его москвичи, горнодобывающая компания «Сибирь». Рудник начал гибнуть. Здесь в восьмидесятых проходил новый ствол шахты — более шестисот метров вниз. Всё было подготовлено к работе.
— Оставалось года два, и предприятие заработало бы,
но — перестройка. Створ затопили. Новое руководство
сдало все лебёдки и всё оборудование на металлолом.
Жалко рудник.
но — перестройка. Створ затопили. Новое руководство
сдало все лебёдки и всё оборудование на металлолом.
Жалко рудник.
Он объясняет на пальцах, как происходит добыча: шахта добывает золотоносную руду и сдаёт её на фабрику, где руда перемалывается в пыль и с водой подаётся на вибростолы. Вибрирующий стол с поверхностью в мелкую ячейку помогает тяжёлому золоту оседать, а остальное смывается водой.
В начале нулевых рудник «Весёлый» несколько лет обрабатывал руду методом кучного выщелачивания, но потом отказался от этого способа добычи.
— Тут нет выщелачивания: цианид не смог растворить наши крепкие породы. При обработке цианидом всё растворяется, а золото остаётся. Поэтому и хотят использовать этот метод. Не нужно строить фабрику, закупать специальное дорогостоящие оборудование. Всё просто: раздробил, цианидом облил, всё стекло, а золото осталось, — резюмирует Александр.
Хоть и кормил его рудник, он понимает опасность кучного выщелачивания и подписал петицию против разработки месторождения на Телецком озере:
— Вспомните, что происходит с Байкалом. В конце концов его отравят, — объясняет Саша. — Вокруг Телецкого нет ни одного такого предприятия, поэтому оно чистое. Нельзя его уничтожать.
В начале нулевых рудник «Весёлый» несколько лет обрабатывал руду методом кучного выщелачивания, но потом отказался от этого способа добычи.
— Тут нет выщелачивания: цианид не смог растворить наши крепкие породы. При обработке цианидом всё растворяется, а золото остаётся. Поэтому и хотят использовать этот метод. Не нужно строить фабрику, закупать специальное дорогостоящие оборудование. Всё просто: раздробил, цианидом облил, всё стекло, а золото осталось, — резюмирует Александр.
Хоть и кормил его рудник, он понимает опасность кучного выщелачивания и подписал петицию против разработки месторождения на Телецком озере:
— Вспомните, что происходит с Байкалом. В конце концов его отравят, — объясняет Саша. — Вокруг Телецкого нет ни одного такого предприятия, поэтому оно чистое. Нельзя его уничтожать.
По материалам экспедиции Silamedia
В июне 2017 года команда экспедиции Silamedia побывала в Республике Алтай, чтобы написать о золотодобыче на Телецком озере.
В июне 2017 года команда экспедиции Silamedia побывала в Республике Алтай, чтобы написать о золотодобыче на Телецком озере.
